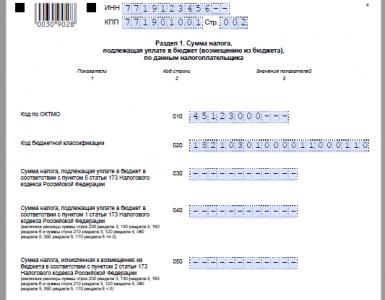Кто открыл закон наследственности. Вторичное открытие законов менделя, развитие концепции гена. Закон единообразия гибридов
Грегор Мендель популярен как ученый, который установил основополагающие принципы наследственности. Во время своей жизни австриец был монахом, увлеченным наукой, чьи впечатляющие исследования не пользовались заслуженной славой в научных кругах.
Австриец родился в 1822 году в городе Хайнцендорф, который в свое время он находился в границах Австрийской империи и теперь является частью Чешской Республики. Грегор в августе 1843 года ушел в монастырь Августы в Бруне, Австрия (нынешний чешский город называется городом Брно). Пять лет спустя он был рукоположен и стал священником. В 1850 году Грегор Мендель сдал экзамен, чтобы получить документы, дающие ему право преподавать. По иронии судьбы, он терпит неудачу, а камни преткновения оказываются биологией и геологией! Несмотря на это, Мендель отправился в Венский университет. Там он изучал (с 1851 по 1853) математику и естественные науки. Монах никогда не получал диплом учителя, но с 1854 по 1868 год он преподавал науку в современной современной школе в Брюсселе.
После 1856 года Мендель начал свои знаменитые эксперименты в области селекции растений. В 1865 году австриец рассказал и опубликовал свои законы наследственности. Более того, он представил свой доклад уважаемому «обществу естественной истории» в Брно. Год спустя Мендель публикует свои результаты в журнале «Протоколы», создавая отчет «Эксперименты с растительными гибридами». В 1869 году в том же журнале была опубликована новая статья. Хотя «Протоколы» не могут похвастаться большим научным авторитетом, журнал регулярно получает крупные австрийские библиотеки. Тем не менее, Мендель отправляет копию своего доклада выдающемуся ученому Карлу Негели, который заслужил репутацию наследственного специалиста. Негели подробно читает отчет и отвечает Менделю, не имея возможности понять и оценить его огромный смысл. После этого разочаровывающего ответа почти никто не интересуется статьями Менделя. Более 30 лет они почти забыты.
Работа монаха вновь открыты только после 1900 года, когда ученые (голландский Хьюго де Фриз, немецкий Карл Корренс и австриец Эрих фон Чермак), работавшие независимо друг от друга, столкнулись с статьями Грегора Менделя. Каждый из исследователей самостоятельно провел серию ботанических экспериментов, и каждый из них самостоятельно открыл и утвердил законы Менделя. Прежде чем объявить о своих результатах, ученые «посоветовались» с первой статьей Менделя. Более того, все трое из них добросовестно относятся к докладу австрийского монаха, отмечая, что их собственные утверждают выводы Менделя. Результаты трех слишком похожи, чтобы критиковать их как «простое совпадение». Более того, в тех же обстоятельствах, английский ученый Уильям Бейтсон также читает статью Менделя. Будучи в восторге от ее изложения, он всегда пытается сосредоточиться на других ученых. Таким образом, в конце года Грегор Мендель уже пользуется заслуженным признанием, которое он заслуживает в течение своей жизни.
Давайте также посмотрим, какие выводы Менделя о наследственности. Прежде всего, ученый считает, что живые организмы сохраняют некоторые существенные компоненты — сегодня мы называем гены — через которые эти наследственные характеристики проявляются из одного поколения в другое. В растениях Менделя специфические индивидуальные характеристики, например цвет семян или форма листьев, определяются парой генов. Один человек наследует один ген от каждой пары генов родителей. Мендель считает, что если два унаследованных гена различаются (например, есть зеленый ген и желтый семенной ген), то вполне нормально видеть действие более сильного гена (в его случае гена для желтых семян), хотя более слабый ген не появляется, он не будет искоренен и может быть передан потомству растения. Мендель обнаружил, что каждая репродуктивная клетка — это половые клетки, называемые гаметы (у людей это сперма и яйцеклетки) содержат один ген из каждой пары. Какой ген из каждой пары будет выделен определенной гамме и будет передан на растение-хозяин, ученый — это вопрос чистой случайности.
Несмотря на их слегка измененную природу, законы Менделя могут быть приняты в качестве отправной точки для современной генетики. Как Менделю удается установить и доказать такие сострадательные и важные принципы, которые избежали внимания нескольких известных биологов перед ним? К счастью, монах выбирает растения, чьи самые отличительные черты определяются одним типом генов. Если бы они проявились несколькими видами, то его работа была бы довольно сложной. Мы можем быть уверены, иначе удача Менделя не была бы такой, если бы он не был таким придирчивым и терпеливым экспериментатором. Вряд ли счастливые обстоятельства помогли бы ему, если бы он не понял, что ему нужно сделать статистический анализ того, что он наблюдал. Опять же, из-за случайности, часто невозможно предсказать, какие функции наследует определенное поколение. Именно благодаря многочисленным экспериментам (Мендель исследует более 21 000 отдельных растений) и статистическому анализу результатов удается выявить законы.
Законы о наследственности являются неотъемлемой частью человеческого знания, и генетика, скорее всего, найдет еще больше приложений в будущем, чем в настоящее время. Давайте также оценим место Менделя в этой ситуации. Поскольку его достижения упускаются из виду, а его выводы — заново открытые гораздо позже, чем другие ученые, для кого-то попытки Менделя могут оказаться ненужными. Его исследования, однако, были забыты лишь на некоторое время и внезапно открылись вновь. Сразу после этого они стали широко известны. Де Фризе, Корренс и Кермак, хотя и независимо друг от друга, прочитали отчет Менделя и полагаются на сделанные им выводы. Ни один из трех ученых никогда не претендовал на открытие законов генетики, кроме того, принципы, полученные от австрийского монаха во всем мире, называются «законами Менделя». По оригинальности и важности их можно сравнить с открытием кровотока Уильямом Харви.
Вторичное открытие законов Менделя, развитие концепции гена как элементарной единицы наследственного вещества, передающейся от родителей к потомку, способную мутировать, рекомбинироваться с другими такими же единицами и определять конкретные признаки организма составляют сущность классического этапа в развитии генетики. Механизм наследственности и ее менделевских закономерностей оказался сходным у всех организмов - от высших до простейших. У всех них было установлено наличие генов, передающихся потомству и рекомбинирующихся в нем, их локализация и линейное расположение в хромосомах, составлены генетические карты различных организмов на основе статистических исследований явлений рекомбинации и кроссинговера (обмена гомологичными участками хромосом).
За четверть века после окончания первого этапа развития генетики представления о природе и структуре гена значительно углубились: в исследованиях на микроорганизмах была окончательно доказана сложная структура гена, расширена база объектов генетического анализа. Если объектами исследования для Менделя и первых менделистов были растения и позвоночные животные (грызуны, птицы), обеспечивающие получение потомства при скрещиваниях порядка десятков и сотен особей (этого было вполне достаточно для установления основных менделевских законов), то объектами исследований Моргана стали дрозофилы, обеспечившие получение потомства порядка нескольких десятков тысяч особей (что позволяло анализировать явления сцепления и обмена факторов, локализованных в гомологичных хромосомах).
Таким образом, суть теоретической концепции гена, по Моргану, состоит в следующем: ген - материальная единица наследственности, ответственная за биохимическую активность и фенотипическое различие организмов; гены располагаются в хромосомах в линейном порядке; каждый ген образуется путем удвоения материнского гена. Существенной чертой такого понятия гена было преувеличенное представление об его устойчивости. Фактически длительное время ген трактовался как последняя, далее неразложимая наследственная корпускула, выключенная из метаболизма клетки и организма в целом, остающаяся практически неизменной в условиях воздействия на нее внешних факторов. Соответственно генотип особи зачастую представлялся в виде мозаики генов, а организм в целом - как механическая сумма признаков, определяющихся дискретными наследственными факторами. В методологическом плане слабостью такого представления о гене, о взаимодействии между генотипом и фенотипом особи была механистическая упрощенность, игнорирование диалектических связей внутреннего и внешнего, целостности биологических систем и процессов. Считалось, что причины мутаций - чисто внутренние, что изменчивость имеет автогенетическую природу и что внешнее отделено от внутреннего.
Интенсивный отбор новых экспериментальных данных открыл новые возможности хромосомной теории наследственности. Стали ставиться под сомнение представления о генотипе как простой сумме изолированных генов. Изучение взаимодействия генов привело к тому, что отдельные признаки стали связываться с действием многих генов и одновременно влияние одного гена стало распространяться на многие признаки. Это, в свою очередь, привело к пересмотру представления о генах как жестко обособленных единицах наследственности, к пониманию их взаимосвязи и взаимодействия. Постепенно чисто морфологические подходы к трактовке понятия гена стали все больше дополняться физиологическими и биохимическими трактовками, что в значительной мере расшатывало классическую концепцию гена, вело к установлению связи гена с обменными процессами клетки и организма в целом, к пониманию изменяемости и, следовательно, лишь относительной устойчивости гена. Этот процесс получил мощное ускорение, когда были осуществлены исследования по мутагенному действию рентгеновских лучей и некоторых химических веществ.
Многие из этих новых характеристик гена получили свое теоретическое обобщение в работах самого Моргана. В них эволюцию понятия гена можно проследить довольно отчетливо. Наиболее полно концепция гена Морганом изложена в его нобелевской лекции (в ее первоначальном тексте), прочитанной в июне 1934 г. В ней он ставит вопросы: какова природа элементов наследственности, которые Мендель постулировал как чисто теоретические единицы; что представляют собой гены; имеем ли мы право после того, как локализовали гены в хромосомах, рассматривать их как материальные единицы, как химические тела более высокого порядка, чем молекулы? Ответ на эти вопросы был таков: «Среди генетиков нет согласия в точке зрения на природу генов, - являются ли они реальными или абстракцией, потому что на уровне, на котором находятся современные генетические опыты, не представляет ни малейшей разницы, является ли ген гипотетической или материальной частицей. В обоих случаях эта единица ассоциирована со специфической хромосомой и может быть локализована там путем чисто генети-еского анализа. Поэтому, если ген представляет собой материальную единицу, то он должен быть отнесен к определенному месту в хромосоме, причем к тому же самому, что и при первой гипотезе. Поэтому в практической генетической работе безразлично, какой точки зрения придерживаться» . Однако позже Морган ответит на этот вопрос более определенно: «По-сле данных, полученных в настоящее время, не может быть сомнения, что генетика оперирует с геном, как с материальной частью хромосомы» .
Теория гена Моргана опиралась на экспериментальные данные, в основном относящиеся к клеточному уровню. Эта теория была выдающимся достижением классического периода в развитии генетики. И хотя современные представления о гене от моргановского отличаются довольно сильно, в главных своих чертах эта концепция гена сохраняет свое значение. Это относится, в частности, к моргановскому представлению о генах как единицах наследственности («материализация» гена), к его пониманию необходимости преодоления чисто морфологиче-ских подходов в исследовании материальных основ наследственности, углубления физиологи-ческого анализа до молекулярного уровня, на котором становится возможной расшифровка фи-зико-химических процессов, обеспечивающих действие генов. генетический наследственность мендель ген
Следует отметить тот факт, что еще в конце 20-х годов А.С. Серебровским и его школой было установлено, что один из генов дрозофилы состоит из серии линейно расположенных единиц, различие между которыми выражалось, например, в присутствии или отсутствии некоторых ще-тинок на теле мухи. Это противоречило моргановскому представлению о гене как элементарной, неделимой далее единицы наследственности . Но поскольку в это время моргановская концепция занимала господствующее положение, то новая точка зрения смогла укрепиться лишь тогда, когда развилась генетика микроорганизмов, когда появилась возможность исследовать тонкую структуру гена в физико-химических и молекулярных аспектах. Трудности развития генетической теории были обусловлены и тем, что в методологическом отношении дарвинизм был более продвинут, чем генетика этого периода своего развития (его философская основа может быть квалифицирована как естественно-исторический материализм с элементами диалектики). Поэтому на каждом этапе своего развития генетика проверялась дарвинизмом.
ГЛАВА 8. Разгадать шифр Бога: открытие генетики и ДНК
В один прекрасный день на заре цивилизации, на прекрасном греческом острове Кос, в кристально чистых водах Эгейского моря молодая женщина, представительница благородного рода, незаметно проникла через черный ход в храм из камня и мрамора - Асклепион, - чтобы обратиться с просьбой к одному из первых и самых знаменитых в мире врачей. В отчаянной надежде получить совет она смущенно поведала Гиппократу о своей необычной проблеме. Женщина недавно родила мальчика. И хотя он был здоровым и пухленьким, Гиппократу, чтобы поставить диагноз, достаточно было взглянуть на малыша, закутанного в пеленки, и его белокожую мать. Темный цвет кожи младенца красноречиво свидетельствовал о пылкой страсти матери к африканскому торговцу. Если бы информация о неверности получила огласку, разразился бы скандал, сплетни распространились по острову со скоростью лесного пожара, вызвав нешуточную ярость мужа.
Но Гиппократ - знавший о наследственности и генетике ровно столько, сколько мог кто-либо знать в V веке до н. э. - тут же предложил объяснение. Некоторые черты детей действительно могут быть унаследованы от отцов, но не учитывалась концепция «материнских впечатлений». В соответствии с ней, дети могли приобретать черты, возникающие в зависимости от того, на что их матери смотрели во время беременности. А значит, как убедил свою посетительницу Гиппократ, ребенок, скорее всего, приобрел негроидные черты во время беременности, поскольку будущая мать слишком пристально изучала портрет эфиопа, который - так уж вышло - висел на стене в ее спальне.
От загадок к генетической революции
С первых дней цивилизации до завершения индустриальной революции представители разных слоев общества с мужеством - порой граничащим с глупостью - пытались раскрыть тайны наследственности. Даже сегодня мы изумляемся тому, как свойства передаются из поколения в поколение. Кому из нас не знакомо удивление при взгляде на собственного ребенка или родного брата в попытке разгадать, от кого ему досталась та или иная черта: чуть искривленная улыбка, цвет кожи, редкий ум или его отсутствие, перфекционизм или склонность к лени? Кто не задавался вопросом, почему ребенок взял именно эти черты у матери, именно эти - у отца, или почему братья и сестры порой так непохожи друг на друга?
И это только самые очевидные вопросы. А как быть с чертами, которые в одном поколении словно исчезают, а затем проявляются у внуков? Могут ли родители передавать детям черты, «приобретенные» в течение жизни: навыки, знания, даже травмы? Какую роль играет окружение? Почему в каких-то семьях одна и та же болезнь преследует все поколения, а другим достаются крепкое здоровье и невероятное долголетие? И, пожалуй, самый тревожный вопрос: как именно передается «бомба замедленного действия», которая определяет, от чего и когда мы умрем?
Вплоть до XX века все эти загадки можно было обобщить в двух простых вопросах. Контролируется ли наследственность какими-то правилами? И как?
Удивительно, но, даже не понимая, как или почему определенные черты передаются из поколения в поколение, человечество долгое время как-то справлялось с этими загадочными явлениями. Тысячелетиями - в пустынях, степях, лесах и долинах - люди скрещивали разные растения и разных животных, чтобы получить желаемые признаки, а иногда и новые организмы. Рис, кукуруза, овцы, коровы, лошади становились крупнее, сильнее, тверже, вкуснее, дружелюбнее и продуктивнее. Лошадь женского пола и осел мужского пола произвели мула, который был одновременно сильнее матери и умнее отца. Не понимая, как именно это работает, люди использовали наследственность для создания сельского хозяйства - богатого и надежного источника еды, который способствовал подъему цивилизации и преображению человечества из горстки кочевников в миллиардную популяцию.
Лишь в последние 150 лет (а точнее, 60) мы начали в этом разбираться. Поняли не все, но достаточно, чтобы расшифровать базовые законы, разобрать на части, указать саму суть наследственности и применить новые знания, вызвав революционные изменения практически во всех направлениях медицины. И, пожалуй, этот прорыв больше, чем любой другой, похож на медленный взрыв. Открытие наследственности и того, как ДНК, гены и хромосомы позволяют разным характеристикам передаваться из поколения в поколение, - долгая работа, которая во многом еще не завершена.
Даже после 1865 г., когда первый революционный эксперимент показал, что наследственностью действительно управляет набор правил, понадобилось еще больше открытий - от открытия генов и хромосом в конце XIX века до определения структуры ДНК в 1950-е, - чтобы ученые начали понимать, как она на самом деле работает. Полтора века ушло на то, чтобы выяснить, как те или иные черты передаются от родителя к ребенку и как крошечная яйцеклетка без каких-либо характеристик способна вырасти и превратиться в человека с 100 трлн клеток и множеством индивидуальных особенностей.
Но мы все еще в начале пути. Хотя открытие генетики и ДНК и было революционным, оно также отворило ящик Пандоры, показав массу возможностей, будоражащих разум и вызывающих массу вопросов: от определения генетических причин заболеваний и генетической терапии, способной их лечить, до «персонализированной» медицины, в которой лечение зависит от уникального генетического профиля пациента. Не говоря уже о многочисленных связанных с генетикой революциях, включая использование ДНК для расследования преступлений, составления родословных, а когда-нибудь - кто знает - для того, чтобы наделять детей теми или иными талантами по нашему усмотрению.
И через много лет после эпохи Гиппократа врачей все так же интриговала идея «материнских впечатлений». Об этом говорят три случая, имевшие место в XIX - начале XX века.
Женщина на седьмом месяце беременности приходила в ужас при виде горящего вдалеке дома. Каждый раз ей становилось страшно от мысли, что это может быть ее дом. Дом ее не сгорел, но пугающий образ пламени оставался у нее «постоянно перед глазами» в течение беременности. У родившейся через несколько месяцев девочки на лбу обнаружилось красное пятно, по форме напоминавшее языки пламени.
Беременная женщина, увидев ребенка с заячьей губой, так сильно переживала из-за этого, что внушила себе: ее ребенок появится на свет с таким же недостатком. Так и вышло: 8 месяцев спустя ее малыш родился с заячьей губой. И это не вся история. Случай получил огласку, и на младенца пришли посмотреть несколько беременных женщин. Три из них позже также родили детей с заячьей губой.
Еще одна женщина на седьмом месяце беременности была вынуждена поселить в своем доме соседскую девочку, так как ее мать тяжело заболела. Девочка часто помогала хозяйке с домашними делами, и женщина то и дело бросала взгляд на ее средний палец, сохранившийся лишь частично из-за несчастного случая в прачечной. В результате женщина родила ребенка, который был полностью здоров - не считая отсутствия среднего пальца на левой руке.
Разрушение мифов: загадка отсутствия безглавых младенцев
Учитывая, как далеко шагнула наука за последние 150 лет, можно вообразить, как наши предки объясняли механизм наследования разных черт. Так, например, врачи времен Гиппократа считали, что во время зачатия мужчина и женщина отдают ребенку «крошечные частички» каждого органа, и смешение этих частичек позволяет передавать те или иные черты. Но теория Гиппократа - позже названная пангенезисом - была вскоре опровергнута греческим философом Аристотелем. Она не объясняла, как черты могут передаваться через поколение. У Аристотеля, конечно, были свои оригинальные идеи. Например, он верил, что дети получают физические черты через менструальную кровь матери, а душа к ним приходит через отцовскую сперму.
Поскольку микроскопов или других научных приборов тогда не было, неудивительно, что вопрос наследственности оставался тайной на протяжении более 2000 лет. Даже в XIX веке люди в большинстве своем верили, как и Гиппократ, в «доктрину материнского впечатления»: идею о том, что на черты еще не родившегося ребенка может повлиять то, что женщина видит во время беременности, особенно если это какие-то шокирующие или пугающие вещи. В медицинских журналах и книгах сообщалось о сотнях случаев, когда женщины, испытавшие эмоциональный стресс от увиденного (обычно это были увечья или уродства), позже рожали детей, у которых обнаруживались аналогичные изъяны. Правда, уже в начале XIX века зародились сомнения в этой теории. «Если наблюдение за чем-то шокирующим может производить такой эффект, - писал шотландский автор “Домашнего лечебника” Уильям Бухан, - то сколько же обезглавленных младенцев должно было родиться во Франции в период жестокого правления Робеспьера?»
Но многие странные мифы сохранились до середины XIX века. Например, был очень популярен слух о том, что у мужчин, потерявших конечности в результате пушечных ранений, рождались дети без рук или ног. Другое распространенное заблуждение - что «приобретенные черты» (навыки или знания, которые человек накапливает в течение жизни) могут быть переданы ребенку. Один автор в конце 1830-х писал о французе, который научился говорить по-английски за очень короткое время, должно быть, унаследовав свой талант от англоговорящей бабушки, которую ни разу в жизни не видел.
А один писатель в XIX веке уверенно заявлял, будто ребенок получает «опорно-двигательные органы» от отца, а «внутренние, или жизненно важные» - от матери. Стоит отметить, что основанием для этой широко распространенной теории стала внешность мулов.
Первые сдвиги: микроскопы помогают обнаружить первопричину
Вплоть до конца XIX века, несмотря на научные достижения, ставшие основой революционных прорывов во многих областях медицины, наследование рассматривали как переменчивую силу природы. При этом ученые никак не могли прийти к единому мнению о том, откуда она возникает, и уж точно не понимали, как этот процесс происходит.
Первые подвижки в формировании теории наследственности появились в начале XIX века, частично благодаря совершенствованию микроскопа. С момента, когда датские мастера по изготовлению очков Ганс Янсен и его сын Захарий изобрели свой первый микроскоп, прошло более 200 лет, и к началу XIX века технические усовершенствования наконец позволили ученым пристальнее взглянуть на «место действия» - клетку. Мощный сдвиг произошел в 1831 г., когда шотландский ученый Роберт Броун обнаружил, что многие клетки содержат крошечную темную центральную структуру, которую он назвал ядром. И хотя роль, которую ядро клетки играло в вопросах наследственности, оставалась неизвестной еще несколько десятилетий, Броун по крайней мере нашел место действия изучаемых процессов.
Почти десять лет спустя британский врач Мартин Бэрри изучил это место действия еще глубже. Он выяснил, что оплодотворение происходит, когда клетка мужской спермы попадает в женскую яйцеклетку. Да, сегодня это звучит банально, но всего лишь несколько десятилетий назад был популярен миф о том, что каждая неоплодотворенная яйцеклетка содержит крошечную «заготовку» человека, и задача спермы - пробудить ее к жизни. Более того, вплоть до середины XIX века большинство людей не подозревали, что в зачатии участвуют только один сперматозоид и одна яйцеклетка. А без знания этого простого равенства (1 яйцеклетка + 1 сперматозоид = 1 ребенок) были невозможны даже первые младенческие шаги к истинному пониманию наследственности.
Наконец, в 1856 г. появился человек, который не только знал об этом равенстве, но и был готов посвятить десять лет жизни разгадке тайны. И хотя его работа может производить впечатление полной идиллии (он трудился в уютном саду на заднем дворе), его эксперименты были, скорее всего, невероятно трудоемкими. Делая то, на что никто раньше даже не решался, он вырастил десятки тысяч гороховых побегов и скрупулезно задокументировал, как их маленькие ростки вели себя в каждом поколении. Позже он не без гордости писал: «Безусловно, чтобы взять на себя такой масштабный труд, нужна определенная смелость».
Но к тому моменту, когда Грегор Мендель закончил в 1865 г. свою работу, он ответил на вопрос, который человечество задавало тысячелетиями: наследственность обусловлена не случайностью или изменчивостью, а определенными правилами. Приятный бонус - помимо кладовой, набитой запасами гороха - заключался в том, что Мендель основал науку под названием генетика.
Веха № 1
От гороха к научным принципам: Грегор Мендель и открытые им законы наследственности
Родившийся в 1822 г. в семье фермеров в моравской деревне (которая сейчас находится на территории Чехии), Иоганн Мендель может считаться либо самым невероятным священником в истории религии, либо самым невероятным исследователем в истории науки. А возможно, и тем и другим. Его интеллектуальные способности несомненны: Мендель так блестяще учился в юности, что один из его учителей рекомендовал ему посетить Августовский монастырь в ближайшем городе Брюнне. Это был обычный для тех времен способ, к которому прибегали бедняки, чтобы получить образование. Там он принял новое имя Грегор. К моменту, когда Мендель получил сан священника в 1847 г. (в возрасте 26 лет), он производил впечатление человека, подходящего для научной деятельности. Мендель с удовольствием преподавал в школе физику и математику, однако провалил экзамен на получение лицензии учителя. Чтобы реабилитироваться после такой неудачи, он отправился в Венский университет на четыре года, где изучал множество разнообразных предметов, включая курсы по математике и физике (которые преподавал Кристиан Допплер) и по естественным наукам. Вернувшись в аббатство в 1853 г., Мендель получил должность преподавателя в высшей школе Брюнне и в 1856 г. предпринял попытку сдать экзамен на лицензию во второй раз.
И снова его провалил.
Хотя сдать экзамен на должность преподавателя Мендель так и не смог, полученное им образование - включая курсы по выращиванию фруктов, анатомии и физиологии растений и экспериментальным методам - было, казалось, предназначено для чего-то куда более важного. Как мы знаем сегодня, уже в 1854 г., за два года до того, как он провалил свой второй преподавательский экзамен, Мендель проводил эксперименты в саду аббатства, где выращивал разные виды гороха, анализировал их развитие и планировал еще более великие эксперименты, которые провел всего через пару лет.
Эврика: 20 тыс. гибридов, простая пропорция и три важнейших закона
О чем размышлял Мендель, когда начинал свой знаменитый эксперимент с горохом в 1856 г.? Прежде всего, эта идея пришла к нему не из ниоткуда. Как это обычно бывает, скрещивание разных видов растений и животных долгое время представляло интерес для фермеров Моравии: они пытались усовершенствовать качество своих декоративных цветочных растений, фруктовых деревьев и овечьей шерсти. И хотя эксперименты Менделя были, возможно, отчасти обусловлены желанием помочь местному сельскому хозяйству, его также явно интриговали серьезные вопросы наследственности. Но если он когда-либо пытался делиться с кем-нибудь своими идеями, то, скорее всего, встречал недоумение. В то время ученые не предполагали, что индивидуальные характеристики могут быть предметом изучения. В соответствии с существовавшей тогда теорией развития, они смешиваются из поколения в поколение и их нельзя изучать по отдельности. Так что сама идея эксперимента Менделя (сравнение особенностей гороха в масштабах многих поколений) была по тем временам эксцентричной (никому это раньше и в голову не приходило) и - что не случайно - озарением гения.
При этом Мендель всего лишь задавал те же вопросы, которые многие уже задавали до него: почему определенные характеристики - будь то блестящая дедушкина лысина или вокальные способности тети - исчезают в одном поколении и снова появляются в другом? Почему какие-то черты случайным образом проявляются и исчезают, а другие, как сформулировал Мендель, появляются вновь с «поразительной регулярностью»? Чтобы изучить этот вопрос, Менделю был нужен организм, обладающий двумя ключевыми свойствами: характеристиками, которые можно легко обнаружить и количественно проанализировать, и коротким репродуктивным циклом, чтобы новые поколения могли появляться относительно быстро. И вот фортуна распорядилась так, что нужный организм Мендель обнаружил в собственном дворе: это был Pisum sativum, обычный горох. Начав выращивать его в саду аббатства в 1856 г., он сосредоточился на 7 характеристиках: оттенок цветков (фиолетовый или белый), расположение цветков (на стебле или на верхушке), цвет семян (желтый или зеленый), форма семян (округлая или сморщенная), цвет стручка (зеленый или желтый), форма стручка (наполненная или сморщенная), высота побега (большая или маленькая).
В следующие 8 лет Мендель вырастил тысячи растений, тщательно проанализировав и распределив по категориям их характеристики в рамках многих поколений. Это был невероятный труд: за один только последний год работы он вырастил 2500 растений второго поколения, задокументировав всего более 20 тыс. гибридов. И хотя он завершил свой анализ лишь к 1863 г., интригующие находки он обнаруживал почти с самого начала.
Чтобы по-настоящему оценить открытие Менделя, обратите внимание на один из его простейших вопросов: почему при скрещивании гороха с фиолетовыми и с белыми цветками получались растения исключительно с фиолетовыми цветками; а при скрещивании получившихся растений с фиолетовыми цветками среди новых растений большинство было с фиолетовыми цветками, а несколько - с белыми? Иными словами, где именно в том первом поколении растений с фиолетовыми цветками была «инструкция» спрятать белые цветки? То же произошло и со всеми остальными характеристиками. При скрещивании растений с желтыми и зелеными плодами у всех «потомков» первого поколения плоды были желтого цвета; но когда эти растения скрещивали между собой, у большинства представителей второго поколения горошек был желтого цвета, а у нескольких - зеленого. Где же в первом поколении была «инструкция» заставить зеленый горошек исчезнуть?
Лишь после того, как Мендель тщательно задокументировал и распределил по категориям тысячи гибридов в масштабах многих поколений, он начал обнаруживать изумительные ответы. В растениях второго поколения вновь и вновь появлялось одно и то же любопытное соотношение: 3 к 1. На каждые три растения с фиолетовыми цветками приходилось одно с белыми. На каждые три растения с желтыми плодами приходилось одно с зеленым. На каждые три высоких растения приходилось одно карликовое - и т. д.
Для Менделя это была не статистическая погрешность, а свидетельство важного принципа, основополагающего закона. Разбираясь в том, как именно могли возникнуть такие наследственные механизмы, он постепенно приблизился к математическому и физическому объяснению того, почему именно так наследственные черты передаются от родителей к потомству. В момент озарения он предположил, что наследственность должна включать перемещение определенного «элемента» (фактора) от каждого из родителей ребенку - то, что сейчас мы называем генами .
И это было только начало. Основываясь на анализе характеристик гороха, Мендель интуитивно открыл некоторые из самых важных законов наследственности. Так, например, он пришел к правильному выводу о том, что в случае с любой существующей характеристикой потомство наследует два «элемента» (аллеля гена) - по одному от каждого родителя - и что эти элементы могут быть доминантными или рецессивными . Таким образом, применительно к каждой существующей характеристике, если потомок наследовал доминантный «элемент» от одного родителя и рецессивный от другого, то он демонстрировал доминантный признак, но при этом был носителем скрытого рецессивного, который мог передаваться следующему поколению. В случае с оттенками цветков, если потомство наследовало доминантный «фиолетовый ген» от одного родителя и рецессивный «белый» от другого, у него появлялись цветы фиолетового цвета. При этом он оставался носителем рецессивного гена белых цветов и мог передавать его своему потомству. Это наконец объяснило, как характеристики могли «пропускать» целые поколения.
Основываясь на этих и других выводах, Мендель разработал три своих самых знаменитых закона о том, как «элементы» наследственности передаются от родителя потомству.
Закон единообразия первого поколения : при скрещивании двух чистых линий (доминантной и рецессивной по одному признаку) все первое поколение будет единообразным по доминантному признаку.
Закон расщепления : при скрещивании потомков первого поколения между собой во втором поколении появятся особи как с доминантным, так и с рецессивным признаком, причем в определенном соотношении 3:1.
Для объяснения этого закона Мендель предложил закон чистоты гамет: взрослая особь имеет два элемента, отвечающих за формирование признака (два аллеля гена), из которых один доминирует (проявляется). При делении половых клеток (гамет) в каждую из них попадает лишь один из двух аллелей. При слиянии мужской и женской гамет аллели гена не смешиваются, а передаются следующему поколению в чистом виде.
Закон независимого наследования признаков : при скрещивании особей с разными признаками, гены, за них отвечающие, наследуются независимо друг от друга.
Чтобы по-настоящему оценить гениальность Менделя, важно вспомнить о том, что в период его работы никто не знал о физических основаниях наследственности. Не было концепции ДНК, генов или хромосом. При полном отсутствии знаний о том, какими могут быть «элементы» наследственности, Мендель открыл новое направление в науке, хотя определяющие термины - гены и генетика - сформировались несколькими десятилетиями позже.
Вечная тема: уверенный в своей правоте, но недооцененный при жизни
В 1865 г., после девяти лет выращивания тысяч гороховых растений и анализа их характеристик, Грегор Мендель представил свои выводы Брюннскому обществу естествоиспытателей, а в следующем году увидела свет его классическая работа «Опыты над растительными гибридами». Это один из величайших переломных моментов в истории науки и медицины. Был найден ответ на вопрос, который мучил человечество тысячелетиями.
И какой была реакция? Вялое равнодушие.
Да-да, в последующие 35 лет работу Менделя игнорировали, неверно интерпретировали. О ней просто забыли. Нельзя сказать, что он не старался: в какой-то момент он отправил свою работу Карлу Негели, влиятельному ученому-ботанику из Мюнхена. А Негели не только не сумел оценить по достоинству труд Менделя, но и отправил ответное письмо, в котором подверг работу ученого, пожалуй, самой унизительной критике в истории науки. Изучив исследование, основанное на трудах, занявших почти десять лет и потребовавших вырастить более 20 тыс. растений, Негели написал: «У меня складывается впечатление, что эксперименты только должны начаться…»
Проблема, как считают современные историки, была в том, что коллеги Менделя не сумели понять значимость его открытия. Из-за их консервативных взглядов на развитие и веры в то, что наследственные черты невозможно ни разделить, ни проанализировать, эксперимент Менделя был воспринят более чем прохладно. Мендель продолжал научную деятельность еще несколько лет, а потом прекратил ее примерно в 1868 г. - вскоре после получения сана аббата в Брюннском монастыре. Вплоть до смерти (1884 г.) он понятия не имел о том, что в один прекрасный день его назовут основателем генетики.
Как бы то ни было, Мендель был убежден в важности своего открытия. По словам одного аббата, за несколько месяцев до смерти он уверенно заявил: «Придет время, когда важность открытых мною законов будет оценена по достоинству». Также он, по некоторым данным, говорил послушникам монастыря незадолго до смерти: «Я убежден, что весь мир оценит значимость этих исследований».
35 лет спустя, когда мир наконец и правда оценил по достоинству его труды, ученые открыли то, о чем Мендель не знал, но что обеспечивает его работе финальную, многообещающую перспективу. Его законы наследственности применимы не только к растениям, но и к животным и людям.
И теперь, с наступлением эпохи научной генетики, закономерно возник вопрос: откуда берется наследственность?
Веха № 2
Исследование территории: глубокое погружение в тайны клетки
Следующая важная веха начала формироваться в 1870-е, примерно в то же время, когда Мендель начал терять надежду на успех своих экспериментов. Однако ее основание было заложено несколькими столетиями ранее. В 1660-е английский физик Роберт Гук стал первым человеком, который решил взглянуть через простейший микроскоп на кусок пробкового дерева и обнаружил то, что он назвал крошечными «ячейками». Но лишь в 1800-е несколько немецких ученых смогли изучить их более пристально и наконец обнаружить, где именно возникает наследственность: в клетке и ее ядре.
Первый важный прорыв случился в 1838–1839 гг., когда усовершенствования микроскопа позволили немецким ученым Матиасу Шлейдену и Теодору Шванну определить клетки как структурные и функциональные единицы всех живых существ. Затем в 1855 г., развенчав миф о том, что клетки появляются из ниоткуда, спонтанно, немецкий ученый Рудольф Вирхов объявил свою знаменитую формулу: Omnis cellula e cellula («Каждая клетка из клетки»). Этим утверждением Вирхов дал науке еще одну ключевую подсказку о том, откуда именно берется наследственность: если каждая клетка появлялась из другой, то информация, необходимая для создания каждой новой клетки (информация о наследственности), должна храниться где-то внутри клетки. Наконец, в 1866 г. немецкий биолог Эрнст Геккель прямо заявил: передача наследственных признаков связана с чем-то… с чем-то внутри клеточного ядра, значимость которого была признана еще в 1831 г. Робертом Броуном.
К 1870-м ученые все глубже изучали ядро клетки, обнаруживая загадочные явления, которые происходили каждый раз при клеточном делении. Так, в 1879 г. немецкий биолог Вальтер Флемминг детально изучил эти явления, назвав весь процесс митозом (непрямым делением). В своей работе, опубликованной в 1882 г., Флемминг впервые точно описал любопытные события, которые происходили непосредственно перед делением клетки: в ядре обнаруживались длинные нитеподобные структуры, которые затем «разделялись на две части». В 1888 г., когда ученые начали говорить о роли, которую эти нити играют в наследственности, немецкий анатом Генрих Вальдейер, один из великих авторов новых терминов в биологии, предложил для них новое название, которое и вошло в историю, - хромосомы.
Веха № 3
ДНК: открытие и забвение
К концу XIX века мир, настойчиво игнорирующий первый великий этап в развитии генетики, решил пренебречь и вторым - открытием ДНК. Да, именно так. ДНК, которой обязаны своим существованием гены, хромосомы, наследственные черты и, наконец, генетическая революция в XXI веке. И, как и в случае с пренебрежительным отношением к Менделю и его законам о наследственности, заблуждение не было кратковременным. Вскоре после своего открытия в 1869 г. ДНК была практически забыта на полвека.
Началось все с того, что швейцарский физиолог Фридрих Мишер, едва закончив медицинскую школу, принял ключевое решение о дальнейшей карьере. Из-за слабого слуха (последствия перенесенной в детстве инфекции) ему было сложно понимать пациентов, и он решил отказаться от карьеры в клинической медицине. Став сотрудником лаборатории в Университете Тюбингена в Германии, Мишер решил тщательно изучить недавнее предположение Эрнста Геккеля о том, что секреты наследственности могут быть раскрыты благодаря ядру клетки. Выбрав лучшие клетки для изучения ядра, он начал отмывать мертвые белые кровяные тельца (содержащиеся в большом количестве в гное) с хирургических бинтов, взятых на свалке ближайшей университетской больницы.
Отобрав для работы наименее неприятные образцы, Мишер подверг белые кровяные клетки воздействию разных химических веществ, пока не добился отделения от клеточной массы ранее неизвестного соединения. Не будучи ни белком, ни жиром, ни углеводом, это вещество обладало кислотными свойствами и содержало большое количество фосфора, чего не обнаруживалось ранее ни в одном другом органическом соединении. Не имея ни малейшего представления о том, что это, Мишер назвал вещество нуклеином. Отсюда и пошел современный термин ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота).
Мишер опубликовал свои научные выводы в 1871 г., а потом много лет посвятил изучению нуклеина отдельно от других клеток и веществ. Но его истинная природа оставалась тайной. И хотя Мишер был убежден, что нуклеин жизненно необходим для функционирования клетки, он в итоге отклонил идею о том, что тот играл какую-либо роль в наследственности. Другие ученые его уверенность не разделяли. Например, швейцарский анатом Альберт фон Келликер имел смелость заявить, что нуклеин, скорее всего, материальная основа наследственных механизмов. С ним согласился в 1895 г. Эдмунд Бичер Уилсон, автор классического учебника «Клетка и ее роль в развитии и наследственности», написав в одной из своих работ:
…И таким образом мы приходим к удивительному выводу о том, что на наследственность, вероятно, может влиять физическая передача конкретного химического компонента от родителя к потомству.
И вот, всего за пару шагов до открытия, способного изменить мир, ученые словно закрыли на него глаза. Мир был попросту не готов к тому, чтобы принять ДНК как биохимическую составляющую наследственности. За несколько лет о нуклеине практически забыли. Почему же ученые отказались от попыток исследовать ДНК вплоть до 1944 г.? Свою роль здесь сыграли несколько факторов, но, пожалуй, самый важный заключался в том, что ДНК казалась неспособной соответствовать поставленным наукой задачам. Как отметил Уилсон в последнем издании своего учебника в 1925 г. (что противоречило его же словам восхищения в 1895 г.), «универсальные» ингредиенты нуклеина не слишком вдохновляли, особенно в сравнении с «неисчерпаемым» разнообразием белков. Как ДНК могла отвечать за все разнообразие жизни?
Ответа на этот вопрос не было до 1940-х, но находка Мишера оказала на науку как минимум одно мощное воздействие: она вызвала новую волну исследований, которые привели к повторному открытию давно забытого этапа. И не однажды, а трижды.
Веха № 4
Рожденный заново: воскрешение монастырского священника и его учения о наследственности
Может, весна и сезон обновления, но мало что может конкурировать с возрождением, состоявшимся в начале 1900 г., когда после тридцатипятилетнего забвения Грегор Мендель и его законы о наследственности вернулись к жизни с новыми силами. То ли это было отчаянное возмездие за долгое равнодушие, то ли неизбежный результат нового витка интереса научного мира, но в начале 1900 г. даже не один, а сразу трое ученых независимо друг от друга открыли законы наследственности - впоследствии обнаружив, что их уже открыл несколько десятилетий назад скромный священник.
Голландский ботаник Хуго Де Фриз стал первым, кто объявил о своем открытии, когда его эксперименты по разведению растений показали то же соотношение 3 к 1, которое в свое время обнаружил Мендель. Следующим был Карл Корренс, немецкий ботаник, проводивший исследования с горохом, которые помогли ему заново открыть законы наследственности. И последним опубликовал свое исследование, также основанное на экспериментах по разведению гороха, австрийский ботаник Эрих Чермак-Зейзенекк. Он отмечал: «Я с величайшим удивлением прочел о том, что Мендель уже проводил такие эксперименты, причем куда более масштабные, чем мои, отметил те же несоответствия и уже дал свои объяснения соотношению 3 к 1».
И хотя серьезных споров о том, кто должен быть провозглашен автором повторного открытия, не было, Чермак позже признался в «мелкой стычке между ним и Корренсом на встрече участников общества натуралистов в Меране в 1903 г.». Но, как добавил Чермак, все трое «были хорошо осведомлены о том, что открытие [ими] законов наследственности в 1900 г. уступало масштабам достижения Менделя в его эпоху, ведь за прошедшие годы была проведена научная работа, значительно упростившая их исследования».
После того как законы Менделя возродились в XX веке, все больше ученых начали обращать внимание на те самые загадочные «единицы», определявшие наследственность. Поначалу никто точно не знал, где они находились, но к 1903 г. американский ученый Уолтер Саттон и немецкий ученый Теодор Бовери выяснили, что они расположены в хромосомах, а те - парами внутри клеток. Наконец, в 1909 г. датский биолог Вильгельм Иоганнсен предложил для этих единиц название - гены.
Веха № 5
Первая генетическая болезнь: поцелуи двоюродных братьев, черная моча и уже знакомая пропорция
Следы черной мочи на подгузнике ребенка встревожат любого родителя, но с точки зрения британского врача Арчибальда Гаррода они представляли собой свидетельство интересной проблемы, связанной с обменом веществ. И дело тут вовсе не в бесчувственности Гаррода. Болезнь, с которой он имел дело, называлась алкаптонурией. Ее самые шокирующие проявления включают изменение цвета мочи на черный под воздействием воздуха, но в целом она не опасна и встречается не чаще, чем у одного из миллиона людей по всему миру. Когда Гаррод начал изучение алкаптонурии в конце 1890-х, он понял, что эта болезнь вызвана не бактериальной инфекцией, как ему раньше казалось, а «врожденным нарушением обмена веществ». Но лишь изучив данные о детях, страдавших от этой болезни - чьи родители почти всегда были двоюродными братьями и сестрами, - он нашел подсказку, которая мгновенно изменила наше нынешнее ви дение наследственности, генов и болезни.
Когда Гаррод впервые опубликовал предварительные результаты своего исследования в 1899 г., он знал о генах и наследственности не больше, чем кто-то другой. Поэтому он и упустил из вида одно из своих ключевых наблюдений: при сравнении числа детей без алкаптонурии с числом болеющих возникало знакомое соотношение 3 к 1. Да, это было то же соотношение, что Мендель обнаружил у гороха второго поколения (например, на три растения с фиолетовыми цветками - одно с белыми), благодаря которому и появилось предположение о передаче наследственных признаков и роли «доминантных» и «рецессивных» элементов (аллелей генов). В исследовании Гаррода доминантной характеристикой была «нормальная моча», а рецессивной - «черная», и у детей второго поколения обнаруживалось то же соотношение: на троих детей с нормальной мочой у одного наблюдалась черная. Гаррод не заметил этой пропорции, но она не ускользнула от внимания британского ученого Уильяма Бейтсона, который связался с Гарродом, как только услышал о его исследовании. Гаррод вскоре согласился с Бейтсоном в том, что законы Менделя дают новый поворот, о котором он не задумывался: изучаемая им болезнь явно носит наследственный характер.
В 1902 г., обобщая результаты своей работы, Гаррод собрал их воедино: симптомы, нарушение обмена веществ и роль генов и наследственности. Он высказал предположение, что алкаптонурия обусловлена двумя наследственными «элементами» (аллелями гена) - по одной от каждого родителя, и что дефектный аллель рецессивен. Что не менее важно, он изобразил биохимическую схему, чтобы обосновать предположение о том, как именно дефектный «ген» вызывал появление болезни. Он, судя по всему, каким-то образом производил дефектный фермент, который, будучи неспособным выполнять свою нормальную метаболическую функцию, приводил к появлению черной мочи. Благодаря этой интерпретации Гаррод достиг еще одного серьезного результата. Он предположил, что именно делают гены: они производят белки, например ферменты. И если с геном что-то не так, он дефектен, он способен произвести и дефектный белок, что может спровоцировать болезнь.
Гаррод продолжил работу, занявшись описанием нескольких других метаболических отклонений, обусловленных наличием дефектных генов и ферментов (которые теперь называются тетрадой Гаррода и включают, помимо алкаптонурии, альбинизм, цистинурию и пентозурию). Но потребовалось еще полвека, чтобы другие ученые наконец доказали его правоту и оценили по достоинству значимость его открытий. Сегодня Гаррода почитают как первого человека в истории, которому удалось продемонстрировать связь между генами и заболеванием. Его работа дала начало современным концепциям генетического скрининга, рецессивной наследственности и рисков родственных браков.
А Бейтсон, вероятно, вдохновленный исследованиями Гаррода, в 1905 г. жаловался в письме, что этому новому направлению в науке не хватало хорошего названия. «Такое имя необходимо, - написал он, - и если кто-то захочет его придумать, то слово “генетика” , возможно, подойдет».
В начале 1900-х, несмотря на растущий список важных достижений, наука переживала кризис самоопределения и была разбита на два лагеря. Мендель и его последователи установили законы наследственности, но не могли объяснить, каковы были ее биологические «элементы» и как они работали. А Флеминг и другие ученые открыли многообещающие биохимические параметры в клетке, но никто не мог разобраться в том, какое отношение они имели к наследственности. К 1903 г. эти два мира сблизились, когда Уолтер Саттон и Теодор Бовери предположили, что «единицы» наследственности расположены в хромосомах, а сами хромосомы наследуются парами (одна от матери и одна от отца) и «могут быть физической основой закона Менделя о наследственности». Но лишь в 1910 г. другой американский ученый - прежде всего, к собственному удивлению - связал эти два мира единой теорией наследственности.
Веха № 6
Как бусины в ожерелье: связь между генами и хромосомами
В 1905 г. Томас Морган, биолог из Колумбийского университета, не только скептически воспринял идею о том, что хромосомы играют какую-то роль в наследственности, но и с сарказмом отреагировал на поведение коллег, поддержавших эту теорию, и жаловался на «насыщенную хромосомной кислотой» интеллектуальную атмосферу того времени. Во-первых, по мнению Моргана, идея о том, что хромосомы содержат наследственные черты, слишком похожа на идею «преформации»: некогда популярный миф о том, что каждая яйцеклетка уже содержит «заготовку» человека. Но в 1910 г. для Моргана все изменилось, после того как он зашел в «комнату с мухами» (помещение, где он и его студенты развели миллионы плодовых мушек дрозофил, чтобы изучить их генетические особенности) и совершил невероятное открытие: у одной из мушек были белые глаза.
Это было поразительное явление (обычно у дрозофил глаза красные). Но еще больше Морган удивился, когда скрестил мужскую особь с белыми глазами и женскую с красными. Первые наблюдения были не слишком удивительными: как и ожидалось, в первом поколении все мушки имели красные глаза, а во втором проявилось знакомое соотношение 3 к 1 (три красноглазые мушки на одну белоглазую). Но полной неожиданностью для Моргана, перевернувшей всю основу его понимания наследственности, стала совершенно новая находка: все представители белоглазого потомства были мужского пола .
Этот новый поворот - идея о том, что определенная черта может наследоваться только одним полом - имел фундаментальное значение в связи с открытием, сделанным за несколько лет до этого. В 1905 г. американские биологи Нетти Мария Стивенс, которая первой принесла в лабораторию Томаса Моргана плодовых мушек, и Эдмунд Бичер Уилсон обнаружили, что пол человека определяется двумя хромосомами: X и Y. У представителей женского пола всегда были две X-хромосомы, а у представителей мужского пола - одна X и одна Y. Когда Морган увидел, что все белоглазые мушки мужского пола, он понял, что ген, отвечающий за белый цвет глаз, как-то должен быть связан с мужской хромосомой. Это заставило его совершить концептуальный скачок, которому он сопротивлялся годами. Он решил, что гены, скорее всего, являются частью хромосомы.
Вскоре после этого, в 1913 г., один из студентов Моргана, Альфред Стертевант, достиг переломного этапа, когда понял, что гены на самом деле могут быть размещены внутри хромосомы линейно. Затем, в результате бессонной ночи, Стертевант создал первую в мире генетическую карту - карту Х-хромосомы дрозофилы, поместив пять генов на линейную карту и рассчитав расстояние между ними.
В 1915 г. Морган и его ученики опубликовали знаковую для науки книгу «Механизмы менделевской наследственности», которая наконец официально провозгласила существующую связь. Два прежде отдельно существовавших мира (закон наследственности Менделя и хромосомы и гены внутри клеток) были теперь одним целым. Когда в 1933 г. Морган получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за свое открытие, ведущий отметил, что теория о том, будто гены расположены в хромосоме «как бисер на ожерелье», изначально казалась «фантастическим заявлением» и «была встречена с обоснованным скептицизмом». Но позже проведенные исследования доказали правоту Моргана, и его выводы были признаны «фундаментальными и определяющими для исследования и понимания наследственных болезней человечества».
Веха № 7
Преобразующая истина: вновь открытая ДНК и ее любопытные свойства
К концу 1920-х были раскрыты многие секреты, связанные с наследственностью. Передачу характеристик можно объяснить с помощью законов Менделя, законы связаны с генами, а гены - с хромосомами. Казалось бы, получившаяся теория охватывала все.
Ничего подобного. Наследственность оставалась загадкой в связи с двумя серьезными проблемами. Во-первых, большинство ученых считали, что гены состоят из белков, а не ДНК. Во-вторых, никто понятия не имел о том, как гены, чем бы они ни были, определяли наследственные признаки. Ответы на все эти загадки начали обнаруживаться в 1928 г., когда британский микробиолог Фредерик Гриффит работал над совсем другой проблемой - созданием вакцины от пневмонии. Это ему не удалось, но зато он с успехом обнаружил еще одну ключевую подсказку.
Гриффит занимался изучением Streptococcus pneumoniae, когда выяснил кое-что любопытное. Одна форма бактерий, вирулентный штамм S, образовывала гладкие колонии, а другая, безобидного штамма R, - неровные. Бактерии штамма S вызывали заболевание, так как имели полисахаридную капсулу, которая защищала их от действия иммунной системы. Бактерии штамма R оказались безвредными: не имея подобной капсулы, они распознавались и уничтожались иммунной системой. Затем Гриффит обнаружил кое-что еще более странное: если мышам вводился сначала безобидный штамм R, а затем вирулентный, но убитый нагреванием штамм S, то мыши все равно погибали. После нескольких экспериментов Гриффит понял, что прежде безвредные бактерии R каким-то образом «приобретали» у вирулентных бактерий типа S способность создавать защитную капсулу. Иными словами, несмотря на то что вирулентные бактерии S были убиты, что-то в них трансформировало безвредные R-пневмококки в болезнетворные S.
Что именно это было и как это было связано с наследственностью и генетикой? Гриффит так и не узнал об этом. В 1941 г., за несколько лет до раскрытия этой тайны, он погиб от немецкого снаряда во время бомбардировки Лондона.
Когда работа Гриффита, описывавшая «трансформацию» безвредных бактерий в вирулентную форму, была опубликована в 1928 г., Освальд Эвери, ученый из Института медицинских исследований Рокфеллера в Нью-Йорке, сначала отказался верить результатам. Да и почему, собственно, он должен был им верить? Эвери занимался изучением бактерий, описанных Гриффитом, последние 15 лет, включая защитную внешнюю капсулу, и замечание о том, что один тип мог «трансформироваться» в другой, бросал ему вызов. Но когда выводы Гриффита подтвердились, Эвери стал одним из его последователей, и к середине 1930-х он и его коллега Колин Маклауд показали, что данный эффект можно воссоздать в чашке Петри. Теперь оставалось выяснить, что именно было причиной трансформации. К 1940 г., когда Эвери и Маклауд приблизились к ответу, к ним присоединился третий исследователь, Маклин Маккарти. Но определение вещества было непростой задачей. В 1943 г., когда товарищи мучились в попытках рассортировать нагромождение в клетке белков, жиров, углеводов, нуклеинов и прочих веществ, Эвери пожаловался своему брату: «Попробуй отыскать активный элемент в этой сложной смеси! Та еще работка - сплошная душевная боль и разбитое сердце». Правда, при этом Эвери добавил интригующую фразу: «Но, в конце концов, быть может, у нас получится».
И, конечно, у них все получилось. В феврале 1944 г. Эвери, Маклауд и Маккарти опубликовали работу, в которой говорилось, что ими определен «трансформирующий принцип» путем простого - впрочем, не такого уж простого - процесса устранения. Протестировав все, что можно было найти в этой сложной клеточной смеси, они выяснили: лишь одно вещество трансформировало R-пневмококки в S-форму. Это был нуклеин - то же вещество, которое впервые было определено Фридрихом Мишером и которое они теперь назвали дезоксирибонуклеиновой кислотой, или ДНК. Сегодня этот классический труд считают первой научной работой, представившей доказательство того, что именно ДНК - та самая молекула, отвечающая за наследственность. «Кто бы мог подумать?» - писал Эвери брату.
Из книги Великие тайны цивилизаций. 100 историй о загадках цивилизаций автора Мансурова ТатьянаГениально простой шифр «Искусство тайнописи, или, как его обычно называют, шифрования, в течение многих веков привлекало внимание как государственных мужей, так и философов; все знакомые с нынешним состоянием этого искусства, как я считаю, признают, что оно по-прежнему
Из книги Семена разрушения. Тайная подоплека генетических манипуляций автора Энгдаль Уильям Фредерик Из книги Политика: История территориальных захватов. XV-XX века: Сочинения автора Тарле Евгений Викторович Из книги Легион «белой смерти» автора Шанкин ГенрихАлександр Бабаш, Генрих Шанкин Шифр, достойный королей Несущие смерть «любовные» послания кардинала Ришелье; конфиденциальные сведения «невинных» писем А. Грибоедова шефу жандармского корпуса, гибель всемирно известного астролога Кардана и пляшущие человечки А. Конан
Из книги Шифры советской разведки автора Синельников Андрей Владимирович Из книги Занимательная ДНК-генеалогия [Новая наука дает ответы] автора Клёсов Анатолий АлексеевичНеужели «генетики нашли разных русских»? В современной России это повторяется с завидной частотой – средства массовой информации подхватывают нечто, что должно показать хотя бы какое подобие раскола между русскими, а другие с радостью перепечатывают на десятках
Из книги Тайны Беларуской Истории. автора Деружинский Вадим ВладимировичНюансы генетики. Вот еще несколько фактов о генетических корнях европейцев.Финская гаплогруппа N3 представлена у народов Европы следующим образом: венгры - 1 % (это кажется просто фантастическим, не могу найти иного объяснения, кроме того, что венгры - чистые угры, а не
Из книги Дело генетиков автораГлава 7 «ЛЕНИНГРАДСКОЕ ДЕЛО» И ГЕНЕТИКИ «ЛЕНИНГРАДСКОЕ ДЕЛО»В событиях 1949–1950 годов чаще всего видят противоборство неких кланов в ЦК ВКП(б). Причем, ведущие партийные и советские деятели оказываются у разных авторов то по одну, то по другую сторону «баррикад».Впервые
Из книги Сталинский порядок автора Миронин Сигизмунд СигизмундовичГлава 7 МИФ О РАЗГРОМЕ СТАЛИНЫМ СОВЕТСКОЙ ГЕНЕТИКИ В 1948 ГОДУ Много внимания уделяется в современной литературе обвинениям Сталина в том, что он, дескать, разгромил советскую генетику в ходе приснопамятной сессии ВАСХНИЛ 1948 года, тем самым отбросив советских генетиков на
Из книги Политическая биография Сталина. Том 1. автора Капченко Николай Иванович1. Сталин в зеркале политической генетики Понятие политическая генетика используется мною для обозначения тех методов и подходов, в основе которых лежит стремление найти объяснение многих действий и поступков Сталина в плоскости преимущественно психологических и
Из книги Боже, спаси русских! автора Ястребов Андрей Леонидович Из книги Антисемитизм как закон природы автора Бруштейн Михаил Из книги Три миллиона лет до нашей эры автора Матюшин Геральд Николаевич6. Самый сложный шифр 6.1. На приеме у академика6.2. Таинственный монах6.3. В кабинете академика6.4. Пляшущие тельца6.5.
Из книги Четвёртый ингредиент автора Брук МихаилГЛАВА 9.ЛОВУШКА ДЛЯ БОГА. НОЧЬЮ, ПРЕДСТАВ ПРЕДО МНОЮ, ПРОМОЛВИЛ МНЕ БОГ, УЛЫБАЯСЬ: «БОГ Я, - И ВСЕ ЖЕ ПОЗНАЛ ВРЕМЕНИ ВЛАСТЬ НАД СОБОЙ»,- усмехнулся Паллад Александриец. «ДУША ИСПЫТЫВАЕТ СТРАХ, ИБО ПЕРЕД НЕЙ ПРИОТКРЫВАЮТСЯ МИЛЛИАРДЫ ЛЕТ, МИЛЛИОНЫ НАРОДОВ, НЕ ТОЛЬКО
Из книги Русские землепроходцы – слава и гордость Руси автора Глазырин Максим ЮрьевичСолнце русской генетики 1920 год, 4 июня. Н. И. Вавилов, возглавил оргкомитет III Всероссийского съезда по селекции и семеноводству в Саратове. Н. И. Вавилов открывает закон гомологических рядов в наследственности и изменчивости, «периодическая система» в растительном мире.
Честь открытия количественных закономерностей, сопровождающих формирование гибридов, принадлежит чешскому монаху, ботанику-любителю Иоганну Грегору Менделю (1822-1884). В его работах, выполнявшихся с 1856 по 1863 гг. были раскрыты основы законов наследственности. В 1865 г. он отсылает в общество естествоиспытателей статью под названием «Опыты над растительными гибридами».
Г.Мендель впервые четко сформулировал понятие дискретного наследственного задатка («ген» - 1903 г., Иогансен). Фундаментальный закон Менделя – закон чистоты гамет.
1902 г. – У.Бэтсон формулирует положение о том, что одинаковые задатки – гомозиготные, разные – гетерозиготные.
Но! Экспериментальные исследования и теоретический анализ результатов скрещиваний, выполненные Менделем, опередили развитие науки более чем на четверть века.
О материальных носителях наследственности, механизмах хранения и передачи генетической информации и внутреннем содержании процесса оплодотворения тогда почти ничего еще не было известно. Даже умозрительные гипотезы о природе наследственности (Ч.Дарвин и др.) были сформулированы позже.
Этим объясняется то, что работа Г.Менделя не получила в свое время никакого признания и осталась неизвестной вплоть до переоткрытия законов Менделя.
В 1900 г. – независимо друг от друга три ботаника –
К. Корренс (Германия) (кукуруза)
Г.де Фриз (Голландия) (мак, дурман)
Э.Чермак (Австрия) (горох)
Обнаружили в своих опытах открытые ранее Менделем закономерности, и, натолкнувшись на его работу, вновь опубликовали ее в 1901 г.
Был установлен (1902 г.) факт, что именно хромосомы несут наследственную информацию (В. Сэттон, Т.Бовери). Это положило начало новому направлению генетики – хромосомной теории наследственности. В 1906 г. У.Бэтсон вводит понятия «генетика», «генотип», «фенотип».
Обоснование хромосомной теории наследственности
В 1901 г. Томас Гент (Хант) Морган (1866-1945) впервые стал проводить опыты на животных моделях – объектом его исследований стала плодовая мушка – Drosophila melanogaster . Особенности мушки:
Неприхотливость (разведение на питательных средах при температуре 21-25С)
Плодовитость (за 1 год – 30 поколений; одна самка – 1000 особей; цикл развития – 12 суток: через 20 ч-яйцо, 4 дня – личинка, еще 4 дня – куколка);
Половой диморфизм: самки крупнее, брюшко заостренное; самцы мельче, брюшко округлое, последний сегмент – черный)
Большой спектр признаков
Маленькие размеры (ок.3 мм.)
1910 Г. – т. Морган - Хромосомная теория наследственности:
Наследственность обладает дискретной природой. Ген – единица наследственности и жизни.
Хромосомы сохраняют структурную и генетическую индивидуальность в течение всего онтогенеза.
В R! Гомологичные хромосомы попарно конъюгируют, а затем расходятся, попадая в разные зародышевые клетки.
В возникших из зиготы соматических клетках набор хромосом состоит из 2-х гомологичных групп (жен., муж.).
Каждая хромосома играет специфическую роль. Гены расположены линейно и образуют одну группу сцепления.
1911 г. – закон сцепленного наследования признаков (генов) (гены, локализованные в одной хромосоме, наследуются сцеплено).
Таким образом, в развитии генетики выделяется два важных этапа:
1 – открытия Менделя, базирующиеся на гибридологических исследованиях – установление количественных закономерностей в расщеплении признаков при скрещивании.
2 – доказательство того, что носителями наследственных факторов являются хромосомы. Морган сформулировал и экспериментально доказал положение о сцеплении генов в хромосомах.
Несмотря на то что работы Менделя упоминались несколько раз в научной литературе, изданной на немецком, русском и шведском языках, впервые они привлекли к себе широкое внимание лишь в начале 20-го века.
В 1900 г. произошло вторичное открытие теории Менделя тремя учеными - Гуго Де Фризом, Карлом Корренсом и Эрихом Чермаком.

К моменту вторичного открытия основных законов наследственности были изучены митоз и мейоз, стало известно, что гаметы содержат вдвое меньше хромосом, чем соматические клетки. Была обнаружена "механика" и сущность оплодотворения. Де Фриз в своей работе "Законы расщепления гибридов" описывает опыты со скрещиванием 11 видов растений, в том числе энотеры (Oenathera Lamarckiana ), на которой создает свою мутационную теорию (см. главу V, § 2), мака (Papaver somniferum ), дурмана (Datura ) и др. Во втором поколении растений при моногибридном скрещивании Де Фриз наблюдал то же соотношение 3:1. Резюмируя, исследователь подтверждает правильность этого обобщения для всего растительного мира.

В ответ на публикацию Де Фриза К. Корренс, работавший с кукурузой (Zea mays ), пишет труд "Правило Г. Менделя о поведении потомства расовых гибридов", где формулирует соотношение расщепления во втором поколении (F 2) как "закон Менделя", а в 1910 г. обобщает идеи Менделя в виде трех законов.
Среди исследователей, обративших пристальное внимание на труды Менделя и активно распространявших менделизм, следует упомянуть и У. Бэтсона, экспериментировавшего с курами (Gallus gallus ) и распространившего законы Менделя на мир животных.
В 1908 г. шведский ученый Г. Нильсон-Эле (родоначальник генетики количественных признаков ) подчеркнул, что сущность открытия Менделя заключается в установлении наличия дискретных, материальных единиц наследственности, а В. Иогансен предложил в 1909 г. для этих единиц термин "ген".
Иогансен работал с одним из сортов фасоли (Phaseolus vulgaris ). Отбирая отдельные растения с мелкими и крупными семенами и наблюдая результаты самоопыления отдельных растений, ученый производил близкородственные скрещивания. В семи поколениях Иогансен получил гомозиготный материал по признаку размера семян.